





Идея лампы возникла из наблюдения за природным явлением — моментом, когда капля воды нарушает гладкую поверхность и создает рябь. Этот краткий визуальный эффект стал основой конструкции: концентрические волны переведены в форму, а свет — в материю, способную ее зафиксировать.
Проект не копирует воду буквально. Он отталкивается от принципа: касание, отклик, расхождение кругов. Вместо имитации — структурное соответствие. Световая часть встроена в акриловые элементы, которые разлагают излучение на бликовые и теневые зоны. Возникает впечатление движения без анимации.
Лампа не показывает природу, а переводит ее механику в дизайн. Свет и форма работают не на иллюзию, а на воспроизведение логики распространения — не визуально, а пространственно.
Интенсивность света в Yurameki регулируется вручную: специальный механизм позволяет перемещать источник вверх и вниз. Этот процесс встроен в конструкцию и требует участия — не нажатия, а действия. Свет не просто включается, он вызывается движением.
Регулировка света в Yurameki требует физического действия — движение рукой вверх или вниз. Это решение не автоматизировано и не отвязано от пользователя: управление встроено в конструкцию и зависит от точного жеста. Такой формат позволяет не просто менять яркость, а выбирать режим, исходя из конкретной ситуации — работа, чтение, вечерний свет.
Такой способ управления делает свет частью сценария использования. Простое движение регулирует яркость и одновременно переключает фокус внимания — от внешнего освещения к конкретной задаче. Лампа не запускается автоматически, а требует включения через действие.
Визуальный эффект лампы строится на взаимодействии света с акриловыми деталями. Они формируют сложные блики и мягкие тени, которые меняются в зависимости от положения источника. Свет не распространяется равномерно — он расслаивается, преломляется, сдвигается.
Каждое движение ручки управления запускает светотеневую перестройку. Лампа не создает единую картину — она задает динамику, в которой структура освещения постоянно меняется. Это не эффект — это результат точной настройки формы и материала.
Форма работает не как декор, а как оптический инструмент. Именно она определяет, как свет будет вести себя в среде. За счет этого лампа воспринимается не как объект с подсветкой, а как система, создающая собственное визуальное поведение.
Лампа построена на минимуме элементов: металлический каркас, акриловая световая часть, ручка управления. Все работает по задаче, без декоративных приемов. Объект остается выразительным даже в выключенном состоянии — благодаря соотношению пропорций, материалов и свободного пространства.
Визуальная легкость достигается за счет разреженности структуры. Лампа не занимает интерьер, а встраивается в него, оставаясь почти невесомой. При этом она не теряет смысловой плотности — форма привлекает внимание, даже когда свет не включен.
Такой подход позволяет воспринимать предмет как часть среды, а не как автономный объект. Свет — лишь один из режимов ее существования. В остальное время конструкция работает на визуальный декор, не теряя функционального потенциала.
Идея лампы у дизайнерки возникла во время поездки в Юсай-Тэй — историческое место в пригороде Киото. Именно там Цзинвэнь Гу наблюдала за движением воды и рябью на поверхности, ставшими отправной точкой для проекта. Это не стилистическая ссылка, а рабочее наблюдение, переведенное в конструкцию.
Юсай-Тэй в Киото стал отправной точкой проекта и местом, где лампа будет показана впервые. Выставка пройдет в том же пейзаже, который вдохновил Цзинвэнь Гу на разработку конструкции. Это решение подчеркивает связь объекта с конкретной средой и показывает, как дизайн может быть встроен в локальный контекст — не как образ, а как результат наблюдения и точной работы с формой.
Проект Yurameki переосмысливает настольную лампу как объект со смыслом. Она не просто дает свет — она строит контакт между движением, формой и тенью. Дизайнерка Цзинвэнь Гу превращает мимолетное природное явление в точную световую механику. Проект стал одним из победителей конкурса Ideas for Business. Редакция JUNG Media выяснила, как работает лампа Yurameki. Разбираем, какие идеи заложены в ее конструкции, как свет превращается в средство концентрации и за счет чего простой предмет становится пространственным опытом.





Основу инсталляции составляет зеркальный пол и вертикальные отражающие панели. Вместо формы — визуальное растворение: границы теряются, земля отражает небо, человек включается в среду, не выходя за рамки простых движений. Конструкция не давит масштабом, но требует полного внимания к тому, что происходит под ногами и вокруг.
Зеркальные поверхности собирают окружающее: облака, солнце, песок, тени, фигуры людей. Пространство не выделяет центр и не фиксирует направление. Оно воспринимается как равномерное поле, в котором невозможно провести границу между физическим объектом и визуальным эффектом.
Этот подход превращает пустыню в материал. Инсталляция не противопоставляется среде, а встраивается в нее. Она не создает образ — она собирает обстановку, в которой каждый элемент, включая зрителя, становится частью структуры.
Инсталляция работает как цикл. Днем отражения фиксируют движение неба: солнце, облака, световую температуру. Поверхность земли исчезает — вместо нее появляется небесный круг, зрительно расширяющий пространство. По мере изменения освещения смещаются фокусы восприятия: статичная конструкция приобретает временную глубину.
Ночью зеркальный пол собирает звездное небо. Отражение Млечного Пути и минимальное световое загрязнение в пустыне создают эффект полной симметрии — зритель оказывается между двумя слоями света. Это не зрелище, а погружение в среду, которая требует замедления и тишины.
Смена суток встроена в архитектуру восприятия. Пространство не перестраивается, но полностью меняет свою роль. Утром — открытая плоскость с активным визуальным потоком. Ночью — темная оболочка, в которой исчезают границы и остаются только тело, дыхание и свет.
Инсталляция построена из простых элементов: зеркальные панели, точечные световые эффекты, акустическая пауза. Никаких экранов, анимаций, цифровых фильтров. При этом зритель не наблюдает за объектом — он становится его частью. Вся система работает на включение: визуальное, телесное, эмоциональное.
Композиция не навязывает сюжет и не требует объяснений. Она запускается через действие: ходьба, касание, остановка. Минимальные изменения позиции или угла зрения раскрывают новые фрагменты среды — световую полоску, отраженное движение, акустический сдвиг. Это последовательность состояний, а не линейный сценарий.
Отсутствие декоративности усиливает эффект. Зритель не считывает «художественный замысел» — он вступает в пространственный контакт. Именно это делает инсталляцию вовлекающей: ее нельзя просто зафиксировать взглядом, она требует присутствия.
Проект «Точка единства» работает не только как инсталляция, но и как высказывание. Свет становится не метафорой, а инструментом. Он используется для формирования опыта, который нельзя передать словами или изображениями — только через участие. Это художественное решение, построенное на ясной и точной архитектуре восприятия.
Автор проекта — украинский художник Николай Каблука. Его участие в Burning Man — это не жест репрезентации, а включение в международный художественный контекст на собственных условиях. Инсталляция, созданная во время войны, говорит не о разрушении, а о восстановлении связи — с собой, с телом, с окружающим.
В этом контексте свет работает как форма устойчивости. Он не декларирует надежду, но создает среду, в которой она становится возможной. Пространство не дает ответов, но позволяет задать правильный вопрос — через тишину, отражение и включенность. Это делает инсталляцию частью процесса, а не объектом для наблюдения.
По словам Николая Каблуки, «Точка единства» задумывалась как символ связи — между небом и землей, идеей и воплощением. Но в пустыне она получила новое значение. В течение фестиваля здесь прошло 36 свадеб — больше, чем у любого другого объекта на Burning Man. «Почти все, кто решил пожениться, выбрали нашу инсталляцию. Не договариваясь. Просто следуя зову сердца. Процессии шли одна за другой. В зеркалах отражались небо, пустыня и счастливые лица. Люди сами нашли в этом смысл — союз двух жизней».
Для художника это стало не просто фактом, а точкой опоры. На фоне войны в Украине, когда свадьбы проходят под сирены или откладываются, ритуал, совершенный у украинской инсталляции в пустыне, приобретает особое значение. «Даже несмотря на бомбоубежища, мировоззрение украинцев не ограничивается четырьмя стенами. Мы продолжаем смотреть в небо, мечтать и строить свое будущее».
Факт того, что «Точка единства» стала частью чужих личных историй, Каблука считает главной наградой проекта. «Это значит, что украинское искусство говорит на универсальном языке. И этот язык способен объединять» — говорит Николай Каблука.
На фестивале Burning Man 2025 представлена инсталляция «Точка единства» украинского художника Николая Каблуки. Это масштабный пространственный объект, построенный на взаимодействии света, отражений и тишины. Зрители становятся участниками среды, где исчезают границы между землей и небом, телом и светом. Редакция JUNG Media изучила, как устроена световая инсталляция «Точка единства» и за счет чего она работает как архитектурный и эмоциональный опыт. Разбираем структуру, принципы восприятия и значение проекта в международном художественном контексте.





Входная зона работает как визуальный маркер и как точка первого впечатления. Вместо привычной ресепшн-зоны архитекторы внедрили масштабную световую инсталляцию, которая выходит за рамки декоративной функции. Свет здесь структурирует пространство, делая фойе активной частью здания.
Инсталляция управляется в реальном времени. Ее яркость, ритм и направление света могут меняться в течение дня или подстраиваться под события. Благодаря этому фойе становится динамичным — оно не дублирует внешний ритм, а формирует собственный. Свет считывается как признак активности: в разное время дня пространство выглядит по-разному, придавая зданию гибкую идентичность.
Решение работает и снаружи. Световая композиция просматривается через фасад, добавляя эффект вечернего присутствия. Это превращает вход в часть городской сцены — он становится узнаваемым элементом в структуре делового района Дортмунда.
На верхнем этаже здания расположено бистро, которое днем работает как зона отдыха, а вечером превращается в площадку для корпоративных мероприятий. Архитекторы заложили в проект возможность смены сценариев без физической трансформации — только за счет света.
Дневное освещение подчеркивает открытость: мягкий рассеянный свет, ровные поверхности, спокойная цветовая температура. Пространство воспринимается как нейтральное и удобное. К вечеру включается теплый направленный свет, появляется игра бликов на поверхностях, активируются локальные акценты. Те же объекты начинают работать иначе — столы, бар, стены становятся частью визуальной сцены.
Световой сценарий строит атмосферу, которую невозможно достичь за счет мебели или отделки. Преобразование происходит без вмешательства в структуру — освещение делает помещение адаптивным и гибким. Это решение не требует компромиссов между функциями: одна зона обслуживает два формата с равной выразительностью.
В офисной части здания свет решает задачу комфорта и эффективности одновременно. Архитекторы отказались от универсального освещения: каждая зона получила собственную комбинацию приборов, настроенную под ее функциональность и степень открытости.
На рабочих местах используется сочетание торшеров и встроенных светильников. Освещение управляется автоматически — в зависимости от естественного света и времени суток система регулирует интенсивность. Это снижает нагрузку на зрение и поддерживает стабильный уровень яркости в течение дня.
Дополнительные сценарии включаются в небольших помещениях: переговорных, телефонных будках, зонах уединения. Там работают датчики движения, исключающие избыточное потребление энергии. Такие решения встроены в повседневный ритм работы — они не требуют участия пользователя и создают ощущение технологической продуманности среды.
Проект строится на принципе минимального потребления при максимальной адаптивности. Освещение подбирается с учетом энергоэффективности: в приоритете светодиодные приборы, интеллектуальное управление, отказ от постоянного фонового света в пользу сенсорных сценариев.
Системы управления работают на связке с архитектурными и интерьерными решениями. Сенсоры дневного света регулируют освещение в зависимости от природной освещенности. В помещениях с переменной загруженностью — датчики движения. Это не только экономит электроэнергию, но и устраняет световое загрязнение в незанятых зонах.
Устойчивость поддерживается и на уровне материалов: светильники и покрытия выбираются с учетом возможности утилизации. Архитекторы не делают акцента на «зеленой» повестке — технологии работают незаметно, как часть проекта.
Освещение стало не оформлением, а основной темой проекта. Именно это решение принесло команде Raumkontor премию LIT Design Award в категории «Освещение рабочего места». Жюри отметило способность архитекторов работать со светом как с инструментом организации среды, а не только как с визуальным эффектом.
Оценивалась не технология, а результат: как свет влияет на поведение, восприятие и взаимодействие в офисе. Проект показал, что даже типовое корпоративное здание может стать пространством с выраженной идентичностью — без навязчивых приемов и показной декоративности.
Свет в этом проекте — не функция и не атмосфера, а система, через которую формируется архитектурный опыт. Эта точка зрения смещает акценты: интерьер рассматривается не как композиция, а как процесс, где освещение становится его основным сценарием.
Кстати, у JUNG также есть решения для проектирования световых сценариев — не только для офисов, но и для дома. Наши специалисты помогут с консультацией, подберут решение и расскажут, как настроить сценарии под любые ваши нужды. Ознакомиться с продукцией можно в шоуруме по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ТЦ «Жибек Жолы», проспект Жибек Жолы, 135, этаж 1, шоурум A 16 D. Телефон: +7 708 590 0802.
В новом офисе Adesso SE архитекторы Raumkontor строят рабочую среду вокруг света. Освещение не дополняет интерьер, а задает его характер — от динамичного фойе до вечернего бистро. Проект получил международную премию LIT Design Award за подход, в котором технологии и атмосфера работают вместе. Редакция JUNG Media изучила, как устроено освещение в штаб-квартире Adesso SE. Разбираем, какие сценарии применены в разных зонах, как свет управляет восприятием и что делает проект устойчивым — не только по энергетике, но и по смыслу.





Пространство организовано как единый маршрут без деления на залы. Навигацию задают изгибы, градации света и смена масштаба. Движение не задано жестко: оно строится по мере прохождения.
Экспозиция не размещена отдельными точками — она встроена в структуру. Проход выстроен ритмически, а не линейно: архитектура задает темп, в котором распределяются визуальные и тактильные акценты. Это не маршрут по точкам, а движение через серии пространственных состояний.
Lan’ Art Space не фокусирует внимание на отдельных объектах. Восприятие формируется как череда впечатлений, где среда работает через смену освещения, текстур и объемов. Такой сценарий организует последовательность, не объясняя, как ее нужно читать.
В основе проекта — ощущение среды через тактильность. Материалы подбираются по отклику: дерево с мягкой текстурой, полупрозрачные панели, теплый камень. Поверхности дают ощущение плотности, но не создают изоляции. Они работают как инструмент восприятия.
Свет распределяет функции и настраивает темп. Он выделяет направления, собирает внимание в ключевых точках, размягчает переходы. Сценарий освещения построен так, чтобы синхронизироваться с движением — в сужениях свет концентрируется, в разворотах рассеивается.
Материал и свет работают в связке. Где-то поверхности глушат звук, создавая ощущение закрытости. Где-то игра отражений удлиняет перспективу. Эти решения формируют конкретные условия для восприятия маршрута.
Проект строится вокруг двух ключевых точек — входной и финальной. Скульптурный объект у вестибюля и композиция во дворе задают структуру маршрута. Это не декоративные элементы, а пространственные узлы, через которые выстраивается сценарий движения и восприятия.
LAN-FLEURIT встроен в архитектуру и определяет конфигурацию входной зоны. Его форма задает направление и ритм начала маршрута, направляет посетителей в одну точку. Плавные линии и симметрия задают спокойный темп и настраивают на переход от внешней среды к внутреннему опыту.
LAN-FLOW во дворе завершает маршрут. Конструкция из дерева работает как пространственная пауза — точка, где движение замедляется, свет рассеивается, звук гаснет. Это не финал, а нейтральная зона, в которой зритель может зафиксировать накопленный опыт. Элементы включены в архитектуру как функциональные части экспозиционного сценария.
В Lan’ Art Space нет привычного деления на зоны. Архитектура и экспозиция работают как единое решение: маршрут, освещение и композиция объединяют их в целостный сценарий. Зритель не переключается между формой и содержанием — он воспринимает их одновременно.
Произведения размещены с учетом пластики пространства, масштаба и световой среды. Архитектура создает равные условия для восприятия. Это усиливает вовлечение: внимание распределяется по маршруту, а не фиксируется на отдельных точках.
Над проектом работают сразу несколько специалистов. Пространственная организация, свет, звук и размещение экспонатов проектируются совместно. Такой метод ближе к сценографии, где каждый элемент встроен в общий ритм и работает на согласованное впечатление.
Иммерсивная архитектура не ограничивается единичными проектами. Похожий подход применяют в разных странах — от цифровых музеев до масштабных инсталляционных сред. Общая черта — полное вовлечение через архитектуру, где маршрут, материал и свет создают основу восприятия.
Amos Rex, Хельсинки
Подземный музей построен не как галерея, а как единая среда. Выставки размещаются в залах без жесткой навигации — свет поступает через бетонные купола, вырастающие на городской площади. Пространство меняется под каждую экспозицию, архитектура работает вместе с медиа-объектами.
Convergence Station, Meow Wolf, Денвер
В проекте объединены четыре вымышленных мира, каждый — с собственной архитектурой, световой средой и звуковым ландшафтом. Посетитель перемещается без указателей: маршрут строится через исследование и взаимодействие. Архитектура создает сюжетную платформу.
Hall des Lumières, Нью-Йорк
Историческое банковское здание адаптировано под цифровые выставки. Проекции не накладываются на пространство, а интегрируются в него: колонны, своды и стены становятся частью визуального материала. Каждый показ перенастраивает архитектуру под собственный ритм.
Решения, примененные в Lan’ Art Space, становятся частью устойчивой проектной практики. Такой подход используют в цифровых музеях, экспериментальных галереях, брендированных пространствах. Архитектура здесь работает как часть экспозиционного процесса.
Общим остается принцип движения. Посетитель не задерживается в одной точке, а проходит через череду пространственных ситуаций. Маршруты строятся так, чтобы менять ракурс, масштаб и плотность восприятия. Среда предлагает набор последовательных действий.
Это меняет профессиональную задачу архитектора. Проект требует точного взаимодействия со сценографами, кураторами и художниками. Вместо формального зонирования — проектирование опыта. Иммерсивное пространство становится самостоятельным инструментом работы с культурным содержанием.
Галереи нового типа отказываются от роли нейтрального контейнера. Архитектура в них становится частью экспозиции: управляет маршрутом, активирует чувства, создает эмоциональные акценты. Такие пространства работают не на демонстрацию, а на вовлечение. Редакция JUNG Media изучила, как работает иммерсивная архитектура в арт-пространствах. Разбираем на примере проекта Lan’ Art Space, какие приемы формируют экспозиционный опыт, как устроены маршруты и зачем пространство проектируют как эмоциональный ландшафт.





В традиционном понимании детский сад — это класс, игровая, тихий час. Простая схема. Но в новых японских и китайских проектах все устроено иначе: сами здания становятся частью игры. Архитекторы создают не набор помещений, а живую структуру — со склонами, сетками, антресолями, горками и лазами. В таких садах пространство работает в движении: ребенок идет, лезет, прыгает, скользит и сам выстраивает маршрут. Здесь нельзя просто пройти от двери до стола — слишком много всего, что хочется потрогать, обойти, исследовать.
Форма и материал играют важную роль. В ход идут натуральные поверхности, как правило — дерево, веревка, ткань. Это создает не только уют, но и безопасную среду: если ребенок упадет, он не травмируется. Вертикальные конструкции, как в японском садике Fuji или китайском Kindergarten of Museum Forest, дают детям не только физическую активность, но и перспективу: подняться, посмотреть сверху, почувствовать пространство.
Главное здесь — не игрушки, а архитектура. Все, что обычно скрыто или считается техническим, превращается в игру. Лестница может быть горкой, потолочная балка — канатом, а обычный подиум — сценой. Такое пространство создает условия для игры, исследования и проб. Оно не ограничивает, а предлагает разные варианты действий. Архитектура становится элементом образовательного подхода — способ сделать обучение живым и разнообразным.
В этих детских садах архитектура и мебель больше не существуют отдельно. Вместо того чтобы расставлять стулья и столы по пустому залу, дизайнеры встраивают мебель прямо в пространство. Появляются ниши, подиумы, полки, тоннели и антресоли, которые не просто заполняют помещение — они его создают. У детей появляется возможность прятаться, забираться, лежать, сидеть, карабкаться.
Такой подход часто реализуется с помощью дерева — теплого, приятного на ощупь материала. Он визуально объединяет пространство и задает мягкий ритм. Никаких ярких пластмассовых элементов и перегрузки цветом — вместо этого простые формы, свет, текстура. Ребенку не диктуют, как использовать тот или иной объект: здесь стол легко становится домиком, полка — сценой, а лестница — горкой.
Эти встроенные элементы учат важной вещи — самостоятельному взаимодействию со средой. В отличие от готовых игрушек с понятным сценарием, такие пространства требуют воображения. Каждый день ребенок может переосмыслять их функцию, играть не по инструкции. Это и есть обучение через среду: когда форма подталкивает к действию, а не ограничивает.
В японских и китайских проектах часто используется вертикаль — не как препятствие, а как возможность. Пространство разворачивается вверх: здесь дети лазают по сеткам, бегают по мостикам, спускаются по горкам, скрываются в антресолях. Игровые конструкции не размещены отдельно — они встроены в архитектуру, являются частью здания.
Вместо четкой границы между «игровой зоной» и «учебной» формируется единая среда, где движение и обучение происходят одновременно. Такой подход помогает детям не только исследовать пространство, но и развивать координацию, уверенность в себе, навык взаимодействия с другими. Особенно важно то, что лестницы, горки, перекладины — это не просто физическая активность, а способ чувствовать и понимать пространство всем телом.
Часто такие элементы размещаются внутри атриумов или залов с естественным освещением. Свет подчеркивает формы, создает акценты, помогает детям ориентироваться. Многоуровневость превращает здание в маршрут. Здесь каждый сам выбирает свой путь.
В некоторых проектах архитекторы намеренно вплетают в детское пространство элементы исторического и культурного контекста. Речь не о стилизации под старину, а о реальном диалоге с окружением. Детский сад может соседствовать с буддийским храмом, двориком эпохи Мин или улицей, застроенной в начале XX века — и архитектура делает это соседство частью обучения.
В таких случаях здание как бы отступает на полшага, открывая панораму. Большие окна, дворики, галереи и прозрачные перегородки задают постоянный визуальный контакт с тем, что снаружи. Ребенок играет, учится, рисует — а перед ним фрагмент пагоды, старый сад или традиционная кладка. Архитектура не навязывает значение, но предлагает почувствовать связь с местом.
Этот подход важен не только для культурной преемственности. Он создает ощущение уважения к пространству и памяти. Так формируется эмоциональная привязанность к среде, в которой растет ребенок. Он видит, как старое и новое могут сосуществовать, как современное здание может не вытеснять, а подчеркивать ценность прошлого.
В педагогике есть понятие «третьего учителя». Первый — это взрослые, второй — сверстники, а третий — сама среда. Пространство, в котором находится ребенок, может учить не хуже преподавателя. В классических школах этот потенциал часто теряется: ровные ряды парт, белые стены, фиксированное направление взгляда. Но архитектура может делать больше — если не ограничиваться рамками и стандартами.
Детские сады в Японии и Китае показывают, как работает принцип «третьего учителя». Здесь все устроено так, чтобы ребенок мог свободно двигаться, выбирать маршрут и быть активным. Нет заданной схемы — есть возможность пробовать разное, исследовать, играть. Тактильность, открытость, многослойность пространства влияют на восприятие. Психологи говорят: чем больше у ребенка вариантов взаимодействия со средой — тем активнее формируется мозг. И в данном случае, архитектура становится не декорацией, а инструментом развития.
В современной педагогике все чаще говорят о «третьем учителе» — среде, которая влияет на ребенка так же сильно, как родители и воспитатели. Японские и китайские архитекторы воспринимают это буквально: детские сады становятся не просто помещением с игрушками, а целым ландшафтом для игры, движения и открытия. Лестницы, стены, мебель и свет — все здесь вовлечено в процесс обучения.
Редакция JUNG Media изучила проекты новых детских садов в Азии, где архитектура работает не только на безопасность и комфорт, но и на развитие. В этой статье рассказываем, как проектируются такие пространства, почему в них нет «лишних» углов и как встроенная мебель, веревочные сетки и продуманные планировки формируют среду, в которой хочется расти.





Центральный элемент павильона — символическая улица, составленная из архитектурных моделей десяти зданий. Это Почтамт, Университетская библиотека, Здание архивов и другие постройки, сыгравшие ключевую роль в формировании послевоенного Скопье. Макеты размещены в линейной композиции без привязки к городской сетке. Пространство выставки создает возможность взглянуть на эти объекты в новом масштабе — не как на элементы повседневной среды, а как на самостоятельные формы.
Такое решение отсылает к легендарной инсталляции Strada Novissima 1980 года, где улица становилась пространством архитектурного диалога. Но если там речь шла о постмодернизме, то македонская версия — Strada Brutalissima — возвращает фокус на брутализм как на живую часть истории города.
Здания поставлены вне привычного контекста — без фоновой застройки, без городской шумности. Это делает их скульптурами. Одновременно работает два «фронта»: с одной стороны — графическая биография зданий (чертежи, планы, модель), с другой — тексты двадцати архитекторов и исследователей, каждый из которых дал свое определение смыслу этих объектов. Макеты дают форму, тексты перспективу.
Землетрясение 1963 года разрушило более половины зданий Скопье и потребовало быстрого архитектурного ответа. Конкурс, организованный ООН, выиграл японский архитектор Кензо Танге. Его идея опиралась на принципы мегаструктур, модульной логики и четкой пространственной иерархии. Проект Танге стал основой для новой урбанистической структуры — с понятной логикой движения, зонированием и центральным акцентом на общественные здания.
Реализацией плана занималась международная команда: Арата Исодзаки, Радован Мишевич, Федор Венцлер. Они интегрировали японскую идею мегаструктур в югославский контекст, добавляя элементы прагматизма и локальной специфики. Так в Скопье появилась архитектура международного модернизма.
Выставка строится по принципу двойного прочтения. С одной стороны, материал — физические модели зданий, выверенные и точные. С другой — смысловой слой: размышления архитекторов, исследователей, критиков. Это короткие тексты, но они важны: они показывают, что за каждым зданием стоит культурный код.
Такой подход помогает уйти от музейного взгляда на брутализм, где здание воспринимается как замерший памятник. Strada Brutalissima предлагает другое — рассматривать архитектуру как разговор. Здание может быть интерпретировано заново. Особенно сейчас, когда городская ткань Скопье снова под угрозой разрушения, но уже не от катастрофы, а от коммерческой застройки.
Смысл павильона не в том, чтобы защищать старое, а в том, чтобы вернуть брутализму статус ресурса. Стиль, который умеет быть грубым, может быть и тонким. Архитектура, построенная в отчаянии, может стать школой нового мышления. Это не взгляд в прошлое. Это шаг в сторону смысла.
Фраза «архитектурный интеллект» звучит необычно. Но в случае Скопье она точно описывает то, что пытается сделать выставка. Архитектура — это не только про форму и материал. Это про способность строить идеи, проводить линии, удерживать смыслы. павильон Северной Македонии показывает, как архитектура может стать языком. И как важно этот язык не потерять.
Strada Brutalissima не о стиле. Она о внимании. О возвращении к деталям. О попытке взглянуть на бетонное здание как на книгу. Прочитать его. Понять, почему оно появилось, что оно хотело сказать и что говорит сегодня. В этом смысле павильон работает как учебник, который дает материал для размышления.
На 19-й Венецианской архитектурной биеннале Северная Македония представила павильон, посвященный бруталистскому наследию Скопье. Проект Strada Brutalissima создает линейную экспозицию из макетов знаковых зданий, собранных в виде единой улицы. В центре внимания не только архитектура, но и ее культурный и политический контекст: как Скопье пережило катастрофу и сформировало собственную языковую модель в бетонных конструкциях.
Редакция JUNG Media изучила проект как пример архитектурного высказывания, в котором переосмысляется значение брутализма — не как исторического стиля, а как инструмента мышления о городе, пространстве и будущем. Выставка ставит важные вопросы: как работать с уязвимым наследием, что делает архитектуру живой и почему типология зданий середины XX века до сих пор сохраняет актуальность.





Современные дата-центры строятся не «раз и навсегда», а как модульные системы, которые можно быстро масштабировать. Такой подход особенно востребован в условиях, когда спрос на облачные сервисы, искусственный интеллект и хранение данных растет каждый день.
Модули производятся на заводе, а затем собираются на месте — это экономит время, снижает затраты и минимизирует строительные отходы. Кроме того, такие решения проще интегрировать в городскую среду или адаптировать к нестандартным участкам.
Компания Microsoft, например, начала применять массивную клееную древесину (CLT) вместо бетона и стали для своих дата-центров в Вирджинии. Это позволяет снизить углеродный след и продвигает устойчивую архитектуру даже в технологической отрасли. Стандартизация и заводская точность сокращают количество ошибок, а масштабируемость позволяет городам и компаниям платить только за те ресурсы, которые действительно нужны.
Еще недавно дата-центры прятали за заборами, выносили за город и старались не афишировать. Сегодня все меняется. Архитекторы и застройщики ищут способ интегрировать эти объекты в реальную среду — так, чтобы они не только не мешали, но и становились полезными, узнаваемыми и даже красивыми.
Например, в Амстердаме архитектурное бюро Benthem Crouwel заменило забор у AM4 на ров с водой. Вместо охраняемого периметра — визуально открытая, почти дружелюбная территория. В Южной Корее здание Chuncheon Data Center от Kengo Kuma использует естественное охлаждение от горы Губон, а сам фасад выполнен с учетом ландшафта. Это уже не просто объект связи, а элемент диалога между природой и инфраструктурой.
Один из самых амбициозных экспериментов — проект Microsoft Natick: дата-центр, погруженный в воду. Он полностью автономен, использует морское охлаждение и минимизирует контакт с сушей. Такие подходы не просто о будущем — они о новой этике проектирования: заботиться о ресурсе, о пространстве и об экологии.
Дата-центры перестают быть невидимой инфраструктурой. Они становятся частью городской ткани, новой архитектурной типологией, с которой приходится считаться. Не только потому, что они важны, но потому, что они растут, становятся больше, заметнее и ближе.
По данным Gensler, к 2030 году мировые расходы на проектирование и строительство дата-центров могут достигнуть 49 миллиардов долларов. Это означает одно: мы уже живем в мире, где цифровая инфраструктура требует реального пространства. И это пространство больше не может быть скучным, однотипным или оторванным от контекста.
Архитекторы ищут баланс — между функциональностью и формой, между безопасностью и открытостью, между технологиями и природой. Кто-то прячет дата-центры под землю или в океан, кто-то встраивает их в жилые районы и парки, кто-то превращает в визуальные ориентиры. И у всех одна цель — научиться работать с тем, что раньше считалось неинтересным и утилитарным.
Центры обработки данных (ЦОДы) — инфраструктура, без которой невозможно представить современную жизнь. Они обеспечивают работу облачных хранилищ, банковских систем, видео и мессенджеров. Но если раньше дата-центры были спрятаны на окраинах в виде серых бетонных коробок, сегодня они все чаще становятся частью городской среды. Архитектура таких объектов меняется: модульные конструкции ускоряют строительство, экологичные материалы помогают снизить углеродный след, а сами здания вписываются в ландшафт или становятся архитектурными акцентами.
Редакция JUNG Media изучила, как меняется архитектура дата-центров: от первых экспериментов с деревом и подводными модулями до превращения ЦОДов в новую типологию зданий цифровой эпохи. Рассказываем о самых интересных подходах и проектах.





В конце XX века города начали быстро меняться. Новые технологии, глобализация, рост темпа жизни — все это сказалось на том, как устроено городское пространство. Машины вытесняли людей, дворы исчезали, а детям все труднее было найти место для игры и прогулок.
В Аргентине на это ответили проектом «Город детей» (Ciudad de los Niños). В 1998 году власти города Росарио вместе с ЮНИСЕФ и по идеям итальянского педагога Франческо Тонуччи начали переосмысливать городскую среду с точки зрения ребенка. Главная мысль была простой: если город удобен и безопасен для детей, в нем будет комфортно всем.
В рамках проекта стали появляться общественные пространства для игры, общения, творчества. Бывший железнодорожный вокзал превратился в «Остров изобретений» — место, где дети могут экспериментировать с наукой, искусством, технологиями. Рядом появились «Сад детей», сочетающий природу и игру, и «Ферма детства» — пространство, где ребенок может прикоснуться к растениям, животным, ремеслу. Все это — не просто площадки, а целая городская философия, в которой игра становится основой для обучения и взаимодействия.
Во многих странах архитекторы пробуют по-новому подойти к образовательным зданиям — не отделять их от природы, а вписывать в нее. Один из ярких примеров — школа в Уругвае, спроектированная студией Rosan Bosch. Она буквально стоит в эвкалиптовом лесу. Классы переходят в уличные площадки, стены открываются, свет льется через большие проемы и дети все время находятся на границе между «внутри» и «снаружи». Пространство не задает жесткой формы — оно подстраивается под игру, интерес и движение.
В Камеруне архитекторы из Urbanitree сделали похожее. Их детский сад African Flow устроен как маленький мир, где каждая зона — это своя экосистема: лес, деревня, горы, саванна. Здесь нет «классов» в привычном понимании. Вместо этого — открытые площадки, тени деревьев, земля под ногами, мягкие переходы. Все сделано так, чтобы ребенок чувствовал связь с местом, с природой, с культурой. Это не «декорация под деревню», а настоящий опыт — близкий, узнаваемый, родной.
Архитектура детства — это не обязательно что-то новое. Иногда лучшее, что можно сделать, — это вернуть жизни старые пространства. В Росарио один из таких проектов — «Остров изобретений», созданный на месте бывшего железнодорожного вокзала. Вместо того, чтобы снести его, архитекторы и педагоги сделали культурный центр, где история города становится фоном для новых открытий. Ребенок играет и одновременно чувствует, что он часть чего-то большего, что у этого места есть память.
Схожий подход у голландского бюро MVRDV в городе Тайнань (Тайвань). Они восстановили старую часть города и создали Tainan Spring — городскую площадь с водой, растениями, местами для встреч и детских игр. Архитекторы сохранили фрагменты каналов и старых построек, встроив их в современный ландшафт. Вини Маас, основатель MVRDV, говорит: «Это место, где дети могут играть среди руин своего города — и чувствовать связь с прошлым». Это уже не просто благоустройство. Это способ сделать историю живой и понятной — через движение, через тактильный опыт.
Некоторые архитекторы идут дальше: они не просто добавляют зелень или строят на природе — они делают ландшафт частью самой игры. В Аргентине, в проекте La Granja de la Infancia, пространство спланировано так, чтобы не мешать природе, а поддерживать ее. Здесь нет заборов и прямых дорожек — только холмы, траектории, открытые площадки, где можно нюхать травы, трогать дерево, смешивать краски из природных пигментов. Все это соединено с ремеслом. Архитектура не говорит: «Вот тебе качели», она говорит: «Попробуй сам, придумай, исследуй».
Похожий подход — в Японии, в проекте детского сада FK в городе Фукахори. Он построен на склоне, с перепадом высот почти в семь метров. Вместо того, чтобы выравнивать участок, архитекторы подчинились рельефу: здания растянулись по линиям склона, а сами холмы стали игровыми маршрутами. Здесь нет четкой границы между «зданием» и «природой». Ребенок учится двигаться по местности, исследовать ее, воспринимать пространство не как набор инструкций, а как поле возможностей.
Современные детские пространства все чаще включают в себя экологические идеи — не как лекцию, а как часть повседневной жизни. Это не про «уроки природы», а про то, как среда сама учит быть внимательным к миру.
В Камеруне детский сад African Flow задуман как живая система, где природа не декор, а часть ежедневной рутины. Все строится из местных материалов, продумано так, чтобы не мешать ветру, свету и воде. Ребенок учится не абстрактной экологии, а взаимодействию — он живет в потоке природы, а не рядом с ней.
В Таиланде проект Kid Cabin в Чонбури делает ставку на простоту. Это небольшие укрытия, адаптированные под детский рост, — с окнами, сквозняками и натуральным светом. В них можно прятаться, играть, слушать звуки снаружи. Это про атмосферу, а не про форму.
А в польском городе Тыхы, на территории парка Яворек, архитекторы сделали целый маршрут из природных игровых элементов: дорожки из гравия и дерева, дождевые сады, зеленые насыпи, водная площадка. Все устроено так, чтобы ребенок просто играл — и одновременно понимал, как работает круговорот воды, как растут растения, как звучит город в тишине. Это не отдельная зона, а часть общей среды, доступной всем.
Во всех этих проектах нет желания показать «как надо». Они не навязывают правила и не выстраивают декорации. Они создают пространство, в котором можно быть. Игра здесь — не приложение к образованию, а его основа. Природа — не задний план, а равноправный участник. Архитектура — не инструкция, а предложение.
Общее у этих примеров одно — они доверяют ребенку. Не делают за него выбор, не загоняют в рамки, а предлагают среду, в которой можно расти в своем ритме. Без давления. Без контроля. Без лишних слов.
Именно такая архитектура — простая, открытая, бережная — помогает формировать не только внимание, но и отношение к миру. Отношение, в котором есть место природе, и игре. Все вместе — это и есть настоящее детство.
В разных уголках мира архитекторы все чаще задумываются о том, как создать среду для детей, которая будет не только безопасной, но и живой, природной, интересной. Пространство, где можно играть, учиться, исследовать и просто быть собой. Проекты в Аргентине, Уругвае, Камеруне, Японии и других странах показывают: когда в центре внимания оказывается ребенок — с его вниманием, движением и воображением, меняется и сама архитектура. Она становится тише, мягче, ближе к земле и к природе. Редакция JUNG Media изучила несколько подходов, которые объединяют архитектуру, игру и экологичное мышление. Мы расскажем, как школы и детские центры интегрируют ландшафт в обучение, как старые городские места становятся новыми точками притяжения, и почему детская среда — это не только про дизайн, но и про отношения.





Lineadacqua устроена просто: узкий вертикальный вырез в стене, почти незаметный, пока не включишь воду. Поток воды становится центральной точкой — он задает ритм и притягивает взгляд. Остальное пространство работает уже вокруг него.
Такой прием можно сравнить с работами художника Лучо Фонтаны, который резал холст, чтобы выйти за пределы живописной поверхности. Здесь тоже — не украшение, а прямое действие. Ничего не объясняется, все становится понятным в момент включения воды.
Lineadacqua — это про ясность. Здесь нет визуального шума. Кран не торчит, ничего не отвлекает. Все выглядит спокойно, пока вы не сделаете шаг. Только тогда становится ясно, где центр внимания.
Это тот случай, когда минимализм — не про сдержанность, а про точность. Знаменитая формула известного архитектора Миса ван дер Роэ — «меньше значит больше» — работает здесь буквально. Кран появляется только когда нужен. Все лишнее убрано.
Этот подход близок эстетике Дональда Джадда, который работал с повторяющимися формами, и архитектуре Тадао Андо, где бетон, свет и пустота существуют на равных. В Lineadacqua тот же принцип: свет, вода, поверхность — каждый элемент встроен, но не выпячивается.
Важную роль играет свет. Узкая световая линия вдоль надреза подчеркивает форму, делает ее почти невесомой. В некоторых вариантах подсветка добавляется снизу — создается эффект, будто раковина висит в воздухе.
Вместо привычного рычага — каменная ручка, похожая на кусок речного валуна. Она тяжелая, тактильная и при этом четко встроена в композицию. Обычное действие — открыть воду — становится осмысленным.
Даже шкафы здесь не выглядят как мебель. Они не стараются привлечь внимание, но у них выразительная фактура, которую хочется трогать. Все работает на ощущение: тишина, простота, внимание к моменту.
Компания antoniolupi появилась в 1950-х как небольшая стекольная мастерская. Сегодня это известный бренд, работающий с дизайнерами по всему миру. Но суть осталась прежней: не гнаться за внешним эффектом, а искать точку, где предмет становится значимым.
Ванная в понимании antoniolupi — это не просто место, где умываются. Это пространство для человека. Lineadacqua продолжает эту линию. Здесь нет желания удивить. Есть желание создать момент. Кран не на виду, техника молчит, работает только то, что действительно нужно.
Lineadacqua — это не про форму, а про действие. Не про объект, а про ситуацию. Про то, что происходит в пространстве, когда включается вода. Про ощущение, а не показ.
Этот проект не выделяется специально, но меняет восприятие. Он не перегружает интерьер, не требует к себе внимания, но работает чётко и понятно. В этом и есть суть хорошего дизайна — когда все просто, но продумано.
Можно ли воспринимать струю воды как часть архитектуры? Такой вопрос ставит проект Lineadacqua, созданный дизайнером Джорджио Равой в сотрудничестве с итальянским брендом antoniolupi. Вместо привычного крана — узкий вертикальный разрез в стене. Из него вырывается поток воды, когда вы открываете кран. Сам механизм скрыт, на виду только эффект. Вся техника уходит в тень — и это дает новый взгляд на привычное пространство.
Редакция JUNG Media изучила этот проект как пример того, как даже самый утилитарный элемент может стать частью архитектурной идеи. В статье — немного о концепции, отсылках к искусству и минимализме и о том, как Lineadacqua меняет привычное восприятие ванной комнаты.





Люди учатся не в одиночку. Это не метафора — это эволюционный факт. Как пишет антрополог Джозеф Генрих в книге «Секрет нашего успеха» (2016), человеческий прогресс — это результат накопления знаний в обществе, а не чьей-то исключительной гениальности. Умение перенимать, подражать, уточнять и делиться стало основой культурной эволюции. В этом контексте наставничество — не бонус, не роскошь, а встроенный механизм развития.
Этот же механизм работает и в дизайне. Практически все дизайнеры — от студентов до звезд индустрии — развиваются через постоянное взаимодействие. Неважно, как это называется: менторство, подмастерье, арт-дирекшн или просто поддержка — суть остается прежней. Кто-то помогает увидеть важное, поправить слабое, укрепить сильное. Кто-то просто дает обратную связь вовремя.
Наставничество в дизайне часто неформальное. Оно может происходить где угодно: в коридоре, за утренним кофе, в комментарии к макету. Это может быть один разговор, который останется в памяти надолго, или долгий процесс, в котором формируется стиль мышления. Но вне зависимости от формы наставничество отвечает на важную потребность — не быть одному в процессе роста.
В дизайне наставничество часто воспринимается как технический процесс: дать фидбек, подсказать решение. Но на практике хороший наставник — это не только источник информации, но и человек, способный быть рядом в момент неопределенности. Слушать, понимать контекст, не давить, но вовлекать.
Исследования в области педагогики и управленческих практик называют это «человеческим навыком» — сочетанием профессиональных знаний и мягких качеств, таких как эмпатия, наблюдательность и эмоциональная вовлеченность. Способность видеть не только задачу, но и человека, который с ней работает.
Наставничество в дизайне — это, по сути, совместная навигация по сложным темам: «почему это не работает?», «куда двигаться дальше?», «а если я не справляюсь?». Это не всегда требует идеального портфолио или глубокой экспертизы. Иногда достаточно просто быть внимательным. Иногда — задать один вопрос, который сдвинет с места. Именно поэтому наставничество — это не только акт помощи, но и акт соавторства. Оно формирует и самого наставника.
Наставничество часто воспринимается как односторонняя передача опыта — один знает, другой слушает. Но на практике это работает только тогда, когда подопечный тоже включен. Исследования показывают, что эффективность наставничества напрямую зависит от подготовки и инициативы самого подопечного. Чем конкретнее вопрос, чем яснее запрос, тем продуктивнее диалог.
Подготовка — это не формальность. Это уважение к времени и вниманию другого человека. Это попытка перевести внутреннюю путаницу в четкий вопрос. Даже если проблема не решена, уже сам процесс ее формулирования помогает прояснить ситуацию.
Опытные дизайнеры отмечают, что лучшие разговоры с подопечными — это не отчеты, а диалоги. Когда у человека есть что показать, что спросить, о чем подумать вслух. Не обязательно приходить с идеальным решением. Достаточно прийти с пониманием, где ты застрял.
Наставник — не консультант и не учитель. Он не дает ответы. Он помогает увидеть другие углы обзора. И чем больше ясности и открытости с обеих сторон, тем больше шансов, что этот контакт перерастет в устойчивую рабочую связь.
Наставничество в дизайне — это не только теплая обратная связь и слова поддержки. Иногда это точные, жесткие вопросы. Иногда — демонтаж привычного подхода. И часто это вызывает неуверенность. Но именно в такие моменты начинается рост.
В своей практике дизайнеры нередко сталкиваются с тем, что им сложно услышать: «это не работает», «ты ходишь по кругу», «здесь нужно думать глубже». И это нормально. Наставник — не тот, кто сглаживает углы, а тот, кто помогает выйти за рамки. Речь не про критику ради критики, а про доверие и честность, которые дают шанс посмотреть на работу по-новому.
Педагоги Роберт Киган и Лиза Лэйхи называют такую среду «намеренно развивающей» — там, где есть и вызов, и поддержка одновременно. Когда наставник не дает упасть, но и не дает расслабиться. Когда рядом с критикой всегда стоит уважение.
В идеальной ситуации наставничество создает безопасное пространство для проб и ошибок, где можно рисковать, проверять гипотезы, допускать слабость — и все равно быть принятым. Это особенно важно в дизайне, где кажущееся «неправильно» часто оказывается отправной точкой для сильного решения.
Дизайнер и педагог Майкл Бирут однажды сказал: «Не ждите, пока вам назначат наставника. Перехватите его». Это короткое высказывание точно описывает то, что действительно работает. Наставничество редко возникает само по себе. Люди заняты, перегружены, не всегда понимают, что могут быть полезны. Но это не значит, что они не готовы. Просто нужен импульс. И его может дать тот, кто ищет поддержки.
Вместо того чтобы ждать официальной программы или «идеального момента», многие дизайнеры просто заводят разговор. Через LinkedIn. На воркшопе. В комментариях к работе. На конференции за кофе. В приемные часы преподавателя. Наставничество — это не всегда про «старших и младших». Это про людей, которые думают в одном направлении, но на разных этапах пути. Иногда ваш будущий наставник — это не звезда Behance, а коллега с соседнего проекта, у которого просто больше опыта. И он готов делиться, если его об этом просят.
Современные платформы делают такие контакты проще: ADPList, DesignWanted, UX Coffee Hours, локальные каналы и комьюнити в Telegram. Чем понятнее вы формулируете свои запросы, тем больше шанс, что они найдут адресата. Наставничество не обязательно должно быть формальным. Оно не требует подписей, заявок и должностей. Все начинается с простого действия — начать разговор.
В последние годы тема наставничества все чаще становится предметом исследований в сфере дизайна, UX и архитектурного мышления. Вот несколько выводов, которые говорят сами за себя.
По данным UX Planet, наличие наставника помогает начинающим дизайнерам быстрее формировать практические навыки, лучше понимать ожидания индустрии и не теряться на первых сложных проектах. Особенно важна здесь обратная связь и эмоциональная поддержка.
Платформа WeTheMakers подчеркивает, что наставничество позволяет избежать типичных ошибок и ускоряет переход от «внутреннего поиска» к реальным результатам: первые клиенты, уверенность в себе, четкая стратегия развития.
А IIDA (International Interior Design Association) называет наставничество одной из самых стабильных и устойчивых форм развития в интерьерной практике. Там подчеркивается, что настоящие профессионалы остаются в профессии дольше именно благодаря сильной поддержке и связям, выстроенным с коллегами и наставниками.
В исследовании «Наставничество и креативность» указывается, что менторство в дизайне может не только способствовать развитию творческого мышления, но и повышать командную вовлеченность и даже влиять на экономические показатели студий.
Наставничество в дизайне — это не формальность, не бонус и не история только для новичков. Это инструмент, который работает на всех уровнях — от первых макетов до стратегических решений. Оно помогает не только расти быстрее, но и не выгорать, не застревать, не оставаться в изоляции.
Все чаще наставничество начинается не с назначения, а с инициативы. Один вопрос, одно письмо, одна встреча — и вы уже не одни. Важно не ждать, что кто-то найдет вас первым. Важно быть открытым и вовлеченным, когда этот момент придет. Или создать его самому.
Хорошие дизайнеры формируются не только проектами. Они формируются окружением — людьми, которые готовы вовремя задать вопрос, услышать, поддержать или мягко направить. Наставничество — это один из самых точных способов сделать дизайн не только профессией, но и сообществом.
Наставничество в дизайне редко попадает в центр внимания. Оно почти не обсуждается в учебниках, не вписывается в бизнес-процессы и часто не имеет четких рамок. Тем не менее, именно наставничество — в диалогах, обратной связи, совместных проектах — становится тем фактором, который определяет, как развивается дизайнер. Будь то начинающий студент, опытный арт-директор или дизайнер на перепутье — все они проходят через опыт подражания, перенимания, уточнения. И именно наличие рядом внимательного, вовлеченного человека делает этот путь осознанным.
Редакция JUNG Media изучила, как работает наставничество в современной дизайн-практике. Мы собрали актуальные исследования, личные наблюдения экспертов, мнения педагогов и практиков.





В Логроньо есть кольцевая развязка, как тысячи других — круглая, с дорожным движением по периметру и фонтаном в центре. Его видно из окон машин, но подойти к нему нельзя. Таких мест много — вроде бы они есть, но никому не принадлежат.
Именно это пространство выбрал архитектор Леопольд Банкини. Он построил вокруг фонтана круглую деревянную конструкцию, в которую встроил парную и зону отдыха. Получилось не скрытое здание, а скорее оболочка — тонкая, легкая, но достаточная, чтобы отделиться от улицы и создать ощущение уюта. Внутри — пар, теплый свет, деревянные стены, скамейки. И все это — в центре транспортного кольца, в месте, которое раньше просто проезжали мимо.
Проект сразу изменил ритм города: теперь здесь не просто смотрят — сюда приходят. Горожане заходят, разуваются и отдыхают. Само место будто обретает новую идентичность — становится точкой встречи, а не пустым пятном на карте.
Внутри «Круга вокруг бань» нет ярких деталей, сложных конструкций или декоративных решений. Все сделано из необработанного дерева: доски, панели, скамейки. Стены пропускают свет, воздух не загоняют внутрь, а позволяют ему двигаться. Это не архитектура комфорта в привычном понимании — здесь нет отопления, шумоизоляции или кондиционирования. Но при этом внутри спокойно, как будто весь город на секунду притих.
Контраст особенно чувствуется, когда находишься в парной. Через щели слышен шум машин, но он не давит. Он становится фоном. Вода, пар, голос соседа по скамейке — все это звучит в другом ритме, который не совпадает с улицей. Это не место уединения, а место соучастия.
Вся конструкция временна. Она существует ровно столько, сколько длится фестиваль. Потом ее разберут. Но за это время развязка, которая всегда была «мимоходом», становится памятным местом — не из-за формы, а из-за опыта.
Один из главных смыслов этого проекта — простота доступа. Любой человек может зайти внутрь, снять обувь, раздеться и воспользоваться баней. Бесплатно. Без записи. Без ограничений по статусу, полу, внешнему виду или происхождению.
Все организовано просто: временной лимит — 45 минут, есть пространство для переодевания и отдыха, скамейки, вешалки, парная.
Для современного города, где любое место требует «подтверждения присутствия» — покупкой, подпиской, социальным одобрением — такая открытость выглядит как редкость. И при этом — как напоминание. Что общественное — это не обязательно скучное или второстепенное. Что быть вместе — это не всегда шумно. Что тепло, тишина и возможность остановиться — это тоже функция города.
То, что Леопольд Банкини поместил баню в центр развязки, — не просто архитектурный эксперимент. Это отсылка к старой городской практике, когда бани были не только местом для мытья, но и важной частью общественной жизни. Там люди обсуждали новости, обменивались историями, знакомились, отдыхали. Это был социальный ритуал, а не просто гигиена.
За последние сто лет эти пространства почти исчезли. Их заменили частные спа, закрытые велнес-центры, клубы по подписке. Все стало индивидуальным, стерильным, дорогим. Баня перестала быть общим делом — и стала частью коммерции. Проект «Круг вокруг бань» возвращает саму идею банного пространства как городского ресурса.
Социолог Рэй Олденбург ввел понятие «третье место» — не дом и не работа, но пространство, важное для человека. Это дворы, лавочки, бани, читальные залы — все то, где люди могут быть собой без необходимости потреблять. Не платить, не доказывать, не оправдываться.
В городах таких мест становится все меньше. Мы привыкли, что отдохнуть можно либо дома, либо за деньги. Остановиться в городе — значит, либо что-то купить, либо выглядеть «уместно». Если ты не клиент, ты под подозрением.
Современные города часто говорят с нами языком ограничений. Скамейки с перегородками, чтобы никто не лег. Площадки без навесов, чтобы не задерживались. Светильники, которые слишком яркие ночью — специально, чтобы никто не уснул. Все это выглядит как забота, но на деле — это архитектура, которая отталкивает.
Бани Банкини идут другим путем. Он говорит: можно. Можно зайти, можно остаться, можно не спешить. Это тоже политика, но не через протест, а через тишину. Архитектура, которая не защищается от людей, а работает на их присутствие.
Подобные решения — не единичны. По всему миру появляются архитектурные проекты, которые работают не на впечатление, а на возвращение. Возвращение простых вещей: сидеть, смотреть, молчать, ничего не объяснять. Просто быть — в своем же городе.
Так, например, в Тегеране, в здании бывшего пивзавода, открылся арт-центр Argo Factory. Архитекторы сохранили индустриальный каркас, добавили свет через кубические проемы в крыше и сделали пространство, в котором не нужно ничего объяснять. Оно работает тихо, без фасадного пафоса — здесь просто удобно находиться.
В Вильнюсе частный MO Museum построен с внутренней лестницей, по которой можно гулять, даже не заходя на выставку. Это не декоративный элемент, а полноценный маршрут. Пространство не прячется от улицы — наоборот, притягивает к себе. Люди заходят, садятся, читают, смотрят. Никто не проверяет билеты и не задает лишних вопросов.
В Подгорице, Черногория, архитекторы предложили идею парка-музея: камень, террасы, навесы, неспешный ритм. Здесь нет ощущения «музейности» в классическом смысле. Все устроено так, будто ты просто продолжаешь прогулку по городу — только чуть медленнее и с возможностью остановиться, если хочется.
И, наконец, в Барселоне был временный проект Park 'n' Chill — обычная парковка на время лета стала двором с навесами, киноэкраном, лежаками и лампами. Люди приходили просто так. Это был не парк, не мероприятие и не фестиваль. Это было просто место, в котором можно задержаться. И никого не смущало, что это всего лишь бывшая стоянка.
Эти проекты очень разные — и по размеру, и по стоимости. Но у них есть общее: они открыты для всех. Не важно, кто ты и зачем пришел. Здесь можно просто посидеть, пройтись, остаться на пару минут или на час. Никто не мешает, не торопит, не делает вид, что ты лишний. Такие места работают не за счет форм и технологий, а потому что в них просто приятно находиться.
Проект Леопольда Банкини сделан из простых материалов, собран без лишней сложности и задуман как временный. Но он работает. Место, мимо которого раньше просто проезжали, вдруг стало точкой притяжения. Даже если баня исчезнет, как и планировалось, ощущение этого места останется. Люди уже побывали там — и теперь это не просто развязка, а кусок города, с которым что-то связано.
В этом и есть сила такой архитектуры. Она не давит, не доказывает, не стремится быть «особенной». Она просто работает для человека — спокойно, мягко, без лишнего. Иногда этого достаточно, чтобы город стал чуть более живым и дружелюбным.
В испанском городе Логроньо, прямо в центре кольцевой развязки с фонтаном, появилась необычная постройка — общественная баня, открытая для всех и построенная временно. Проект под названием «Круг вокруг бань» создал архитектор Леопольд Банкини в рамках фестиваля Concéntrico. Вместо привычного городского шума — пар, дерево и тишина. Редакция JUNG Media изучила этот проект и разобралась, как обычная развязка на проезжей части превращается в общественное пространство. Что делает архитектура, когда она не требует внимания, а предлагает отдых. И почему такие временные жесты цепляют сильнее, чем постоянные конструкции.





Позолота как декоративная техника появилась более 4000 лет назад — сначала в Египте и Месопотамии. Золотую фольгу наносили на дерево, металл и гипс, чтобы придать предмету статус и сакральность. Гробницы, статуи, детали храмов оформлялись не только ради красоты — золото символизировало близость к божественному и недоступному.
Материал имел особый статус: в Древнем Египте золото считалось «плотью богов», а фараоны — посредниками между мирами. Их саркофаги, маски и ритуальные предметы покрывали тончайшим слоем золота, создавая не иллюзию, а эффект абсолютной ценности. В Месопотамии фольга использовалась в ритуальной скульптуре и царских артефактах, указывая на исключительное положение владельца.
Похожие приемы применялись в Китае: позолоченные бронзовые сосуды использовались в храмах и при дворе. В античном мире — у греков и римлян — золото стало частью архитектуры. Им покрывали купола, колонны и статуи. Позолота отделяла власть от подданных, подчеркивала масштаб и значимость зданий. Она маркировала не просто богатство, а иерархию.
В европейской архитектуре позолота стала частью придворного репертуара. Во Франции XVII–XVIII веков она использовалась как способ визуально закрепить статус монарха. Самый известный пример — Зеркальный зал в Версале: позолоченные карнизы, лепнина, мебель, светильники. Пространство было спроектировано не для комфорта, а для демонстрации абсолютной власти.
Та же логика перенеслась в Америку во второй половине XIX века — в период так называемого Позолоченного века. Новые элиты, разбогатевшие на промышленности и транспорте, заказывали особняки, вдохновленные Версалем и итальянскими палаццо. Позолота использовалась как маркер новой аристократии — людей, которым нечего было унаследовать, но было что показать.
Один из самых известных примеров — Marble House семьи Вандербильт в Ньюпорте, построенный в 1892 году. Здание с позолоченными залами, колоннами и лестницами задумывалось как «храм искусств», напрямую отсылая к Малому Трианону. Визуальный код считывался — золото означало вес, влияние, признание. Не только среди американцев, но и в глазах Европы.
В XVIII веке российская монархия перенимает западноевропейские архитектурные коды, включая позолоту как маркер абсолютной власти. В правление Елизаветы Петровны, Екатерины II и Павла I позолота становится неотъемлемой частью имперской эстетики: колонны, капители, фризы, дверные проемы и даже печи покрываются сусальным золотом. Это не декоративный жест — это прямая визуализация идеи «освещенного трона».
Царское Село, Зимний дворец, Петергоф — ансамбли, в которых золото выполняет не только орнаментальную, но и идеологическую функцию. Интерьеры должны были подчеркивать статус правителя как божественного посредника и культурного лидера. По масштабам применения золота Россия быстро догнала и в отдельных случаях превзошла европейские дворы.
В XIX веке акцент смещается с барочной пышности на неоклассицизм, но золото не исчезает. Оно трансформируется в систему акцентов: обрамления зеркал, декоративные медальоны, карнизы. Позолота остается знаком государственной архитектуры и признается в официальном каноне как «естественный элемент имперского стиля».
В архитектурной традиции Центральной Азии золото играет двойную роль — как материальное воплощение власти и как символ сакральной легитимации. Уже в средневековых мавзолеях и дворцах Тимуридов золото использовалось в отделке куполов, мозаик, письменных панелей. Оно обозначало не просто богатство, а прямую связь правителя с божественным порядком.
В постсоветский период эта логика усиливается. В новых столицах — Астане, Ташкенте, Ашхабаде — золото становится материалом номер один для репрезентации власти. Купола мечетей, памятники, фасады административных зданий, даже декоративные элементы уличной инфраструктуры оформляются в золоте или его имитации. Оно действует как визуальный гарант стабильности, преемственности и недоступности.
Особое значение приобретают позолоченные статуи лидеров. В Туркменистане, например, культ личности был буквально материализован в виде позолоченного монумента Сапармурата Ниязова. Здесь золото — не просто украшение, а материал политического культа.
В 2025 году Дональд Трамп предложил проект нового бального зала для Белого дома — 90 000 квадратных футов с позолоченными деталями, зеркалами и трубами в духе Позолоченного века. Этот стиль уже знаком по интерьерам Trump Tower и Mar-a-Lago: позолота — основной визуальный код его публичного образа.
Намерение перенести этот язык внутрь государственной резиденции вызвало дискуссию. Историки и Американский институт архитекторов обсуждают, насколько уместна эстетика роскоши в здании, спроектированном как символ республики. Белый дом построен в неоклассическом стиле, с отсылкой к архитектуре Греции и Рима — как знак демократических принципов.
Трамп переосмысляет этот код: позолота в его проекте — не стилистика, а политическое высказывание. Это не реставрация и не историзм — это реплика на тему власти. Архитектура в данном случае становится продолжением образа и личного стиля нынешнего президента.
В сегодняшней архитектуре позолота утратила статус обязательного маркера власти. В элитных интерьерах ее вытеснили другие признаки: площадь, приватность, коллекции, локация. Эстетика изменилась — вместо орнамента и блеска в ходу простота, фактура, дорогие, но сдержанные материалы. Визуальная репрезентация сместилась в сторону так называемой «тихой роскоши».
Однако в отдельных контекстах позолота по-прежнему остается политическим жестом. В странах с авторитарной властью, на религиозных объектах или в пространствах церемониального значения она продолжает работать как сигнал: «здесь — центр». В этом смысле проект Трампа вызывает не только стилистический, но и институциональный конфликт.
Позолота возвращается в Белый дом не как декоративная деталь, а как символическая реплика. Ирония в том, что этот элемент — визуальный код монархических дворцов Европы — оказывается встроен в здание, задуманное как воплощение американской демократии.
Золото в архитектуре всегда значило больше, чем материал. Оно использовалось не ради красоты, а ради утверждения статуса. Позолота маркировала власть, разделяла пространство на иерархии, придавала зданию функцию демонстрации власти. Возвращение позолоты в Белый дом — не стилистическая ошибка и не личный каприз. Это проявление устойчивого механизма: власть визуализирует себя. И если раньше золото означало божественность, аристократию или победу, сегодня оно может обозначать частную инициативу, индивидуальный стиль, отказ от институционального нейтралитета.
Этот пример показывает, что декоративные приемы продолжают работать как политические инструменты — особенно в тех случаях, когда речь идет не об интерьере, а о значении архитектурной оболочки.
Позолота служит символом власти тысячелетиями — от гробниц Древнего Египта до зеркальных залов Версаля и особняков американского Позолоченного века. Сегодня, когда в Белом доме обсуждаются планы бального зала с золотыми декорациями по проекту Дональда Трампа, возникает противоречие: символ монархической роскоши оказывается в главном здании демократической власти. Редакция JUNG Media изучила эволюцию позолоченного декора — от египетских саркофагов до современных дизайнов в Белом доме. Разберемся, какие социальные и политические смыслы несла позолота в разных эпохах и почему зеркальный бальный зал Белого дома вызывает напряжение в демократическом контексте.
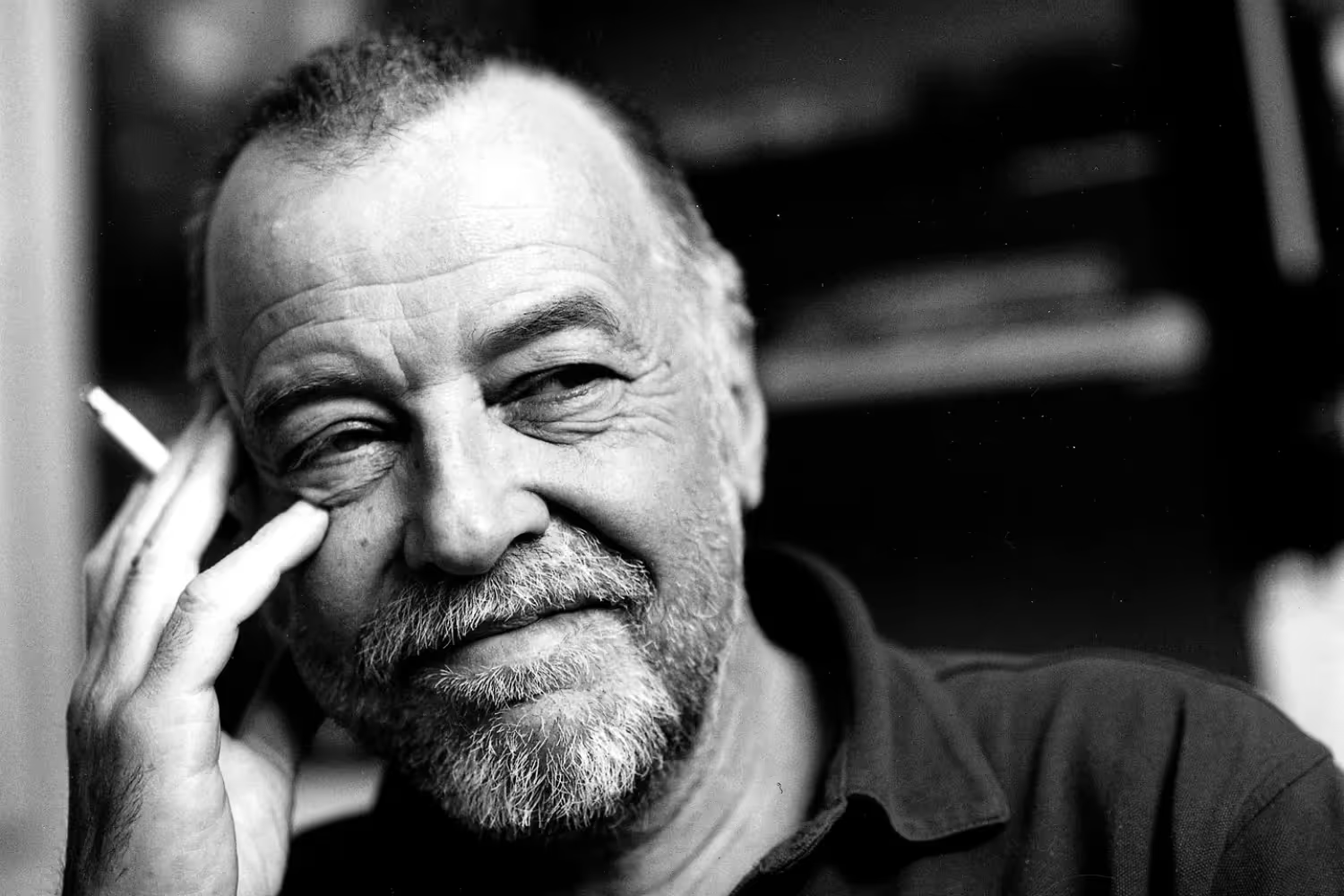




Хельмут Свичинский родился в 1944 году в Познани, но вырос в Вене. Там он поступил в Венский технический университет, где познакомился с Вольфом Приксом — будущим сооснователем бюро Coop Himmelb(l)au. Они оба оказались частью поколения, формировавшегося в контексте политических и культурных сдвигов 1960-х, когда архитектура стремилась выйти за рамки академических стандартов.
После окончания вуза Свичинский продолжил обучение в Architectural Association School в Лондоне — одной из немногих школ того времени, где практиковался критический подход к архитектурной норме. Он оказался в среде, где развивались идеи группы Archigram и где архитектура рассматривалась как способ радикального высказывания. Именно там складывается его интерес к нестабильным, фрагментированным пространствам.
В 1968 году, после возвращения в Вену, Свичинский, Прикс и Михаэль Хольцер основали группу Coop Himmelb(l)au — не как архитектурное бюро в классическом смысле, а как экспериментальную лабораторию. Название было выбрано как игра слов: «кооператив небесно-голубого цвета», с отсылкой к сюрреализму и иронии. С самого начала они заявили о себе как о коллективе, работающем на грани архитектуры, искусства и теории.
Первые годы существования группы были отмечены преимущественно бумажными проектами — визуальными манифестами, инсталляциями, пневматическими структурами. Это был не поиск заказов, а работа с самим определением архитектуры: чем она может быть в условиях политического и культурного сдвига.
Первым заявлением Coop Himmelb(l)au стала Villa Rosa (1968) — пневматическая структура, определенная авторами как «пульсирующее пространство». Проект не предполагал постоянного использования или функции. Он был построен как временное жилье, в котором архитектура больше напоминала живой организм, чем здание. Пластичная оболочка, изменяемая воздухом, демонстрировала, что пространство может быть гибким, нефиксированным и телесным.
Следующим шагом стала серия проектов с надувными формами и инсталляциями, среди которых — Wolke («Облако»), созданная в 1969 году. Эти работы были ближе к перформативным жестам, чем к строительству: они не столько предлагали решение, сколько ставили под вопрос саму дисциплину архитектуры. Внутри группы это время воспринималось как стадия поиска — форм, методов, понятий.
Первая попытка работать в городском контексте — Reiss Bar (1971–1977). Это был первый реализованный проект группы, сочетавший в себе экспериментальную форму и функцию реального общественного пространства. Здесь впервые появляются фрагментированные объемы, резкие сдвиги плоскостей, работа со светом и нестабильной геометрией — все, что позже станет узнаваемым почерком бюро.
Переход от «бумажной архитектуры» к построенным объектам не изменил подхода: даже реализованные проекты оставались частью манифеста. Они не столько отвечали на запрос заказчика, сколько внедряли новое архитектурное мышление — на грани конструкции и жеста.
В 1980-е Coop Himmelb(l)au активно участвует в международных дискуссиях об архитектуре, которая отказывается от симметрии, порядка и стабильности. К 1988 году бюро получает международное признание — их приглашают в число семи участников выставки Deconstructivist Architecture в MoMA. Кураторы Марк Уигли и Филип Джонсон собирают архитекторов, чьи проекты демонстрируют разрыв с модернистской традицией и интерес к фрагментации, нестабильности между формой и функцией.
Наравне с Захой Хадид, Франком Гери, Даниэлем Либескиндом и другими, Coop Himmelb(l)au представляет на выставке свои ранние и текущие работы — как раз в тот момент, когда их стиль начинает формироваться как система. Важным элементом становится открытая конструкция, «взрыв» формы, подчеркивающий конфликт между внутренним пространством и внешним каркасом.
Критики и историки архитектуры вписывают Coop Himmelb(l)au в общее направление деконструктивизма, хотя сама группа отрицает принадлежность к школе или движению. Для Свичинского и Прикса архитектура оставалась политическим и интеллектуальным актом — не стилем, а методом. Их проекты ставили пространство в состояние напряжения, подрывали логику целостности и подчеркивали конфликт как форму.
Таким образом, участие в выставке MoMA предоставило платформу для новых международных заказов и поставило Coop Himmelb(l)au в один ряд с ведущими архитекторами авангарда конца XX века.
После выставки в MoMA архитектура Coop Himmelb(l)au становится масштабнее и технически сложнее. Один из ключевых проектов этого периода — Rooftop Remodeling Falkestrasse (1983–1988) в Вене. Это надстройка на здании страховой компании, выполненная как фрагмент взорванной геометрии. Проект сохраняет структуру оригинального здания, но вводит поверх него пласт формы, который будто разрушает привычный порядок фасада. Работа становится манифестом деконструктивистского подхода — не как эстетики, а как пространственного конфликта.
В 1990-е и 2000-е бюро получает крупные заказы в Германии, Нидерландах, Франции, США. Среди них — выставочные залы Groninger Museum (1994), главный павильон BMW Welt в Мюнхене (2007), а также один из самых заметных объектов — Musée des Confluences в Лионе (2001–2014). Это здание представляет собой сложную геометрию пересекающихся объемов с глухими металлическими фасадами и эффектом постоянной трансформации. Внутри организованы залы без жесткой иерархии — пространство создает сценарии, а не навязывает маршруты.
Эти проекты становятся частью новой фазы работы Свичинского. Архитектура сохраняет резкость и фрагментацию, но получает дополнительный уровень инженерной точности. Строительство требует сложной координации с конструкторами, а форма подчиняется уже не только концепции, но и системной работе с материалами и структурой. Coop Himmelb(l)au превращается в бюро, способное воплощать архитектурную провокацию в строительный проект любой сложности.
Помимо проектной работы Свичинский вел активную преподавательскую деятельность. В 1973 году он становится приглашенным профессором в Architectural Association School в Лондоне — том самом месте, где сам формировался как архитектор. Позже он преподавал в Университете прикладных искусств в Вене, а также в ряде школ в Европе и США. Его курсы строились не вокруг стилистики, а вокруг подхода: как проектировать, исходя не из формы, а из конфликта, сценария, нестабильности.
За вклад в развитие архитектуры Свичинский получил ряд наград: Австрийский государственный архитектурный приз, премию Schelling, Европейскую награду за культуру от фонда Pro Europa. Он был членом Европейской академии наук и искусств. Его тексты и интервью регулярно публиковались в архитектурных изданиях, где он анализировал не только конкретные проекты, но и границы профессии архитектора.
В 2006 году Свичинский покидает Coop Himmelb(l)au. Причиной стал конфликт с Приксом, его сооснователем и партнером, с которым он перестает общаться. Последние годы жизни архитектор проводит вне профессии — в кругу друзей и семьи, занимаясь рисунками, письмом, чтением. Свичинский умер в июле 2025 года после продолжительной болезни. Для Вольфа Прикса это было личной потерей: «Swi, как мы его называли, был не только выдающимся архитектором пространства, но и блестящим инженером. Он гордился своим предком Карлом фон Гегой, автором Семмерингской железной дороги. Многие смелые конструкции Coop Himmelb(l)au восходят к Хельмуту. Но он был больше, чем архитектор. Он мог часами говорить о философии, обществе, образовании, о вещах, которые его действительно волновали — но только с теми, к кому испытывал симпатию. Когда друг — а он был другом для меня — уходит навсегда, общее прошлое становится неподвижным. Мы больше не можем мечтать вместе, но остается то, что мы построили», — написал он в инстаграме.
Хельмут Свичинский (1944–2025) — сооснователь компании Coop Himmelb(l)au и один из ключевых архитекторов, определивших развитие деконструктивизма. Его карьера началась с экспериментальных проектов в конце 1960-х и привела к крупным международным заказам, включая Musée des Confluences в Лионе. В 1988 году он вошел в число участников выставки в MoMA, где деконструктивизм был впервые представлен как архитектурное направление. Редакция JUNG Media разобрала этапы его биографии, принципы работы и знаковые проекты — от Villa Rosa до крыш над Веной — чтобы показать, как складывалась архитектура, ориентированная не на форму, а на конфигурацию пространства.





Барро-негро добывают в окрестностях Сан-Бартоло-Койотепек — небольшого города в мексиканском штате Оахака. Это пластичная вулканическая глина с высоким содержанием железа, которая при обжиге в дровяной печи приобретает насыщенный черный цвет. До середины XX века ее использовали преимущественно для утилитарной керамики — горшков, тарелок, кувшинов.
Ситуация изменилась в 1950-х, когда керамистка Донья Роса Реаль открыла эффект, достигаемый полировкой полусухой глины кварцевыми камнями. Результат — глянцевая поверхность с металлическим отливом, которая кардинально изменила статус материала. Барро-негро перестала быть сугубо утилитарной и стала применяться в декоративных и дизайнерских объектах, сохранив при этом прочность и технологическую гибкость.
Процесс обработки барро-негро — медленный и трудоемкий. Он начинается с добычи глины и ее смешивания с водой вручную. Из полученной массы формуют изделия — руками или с помощью простых гипсовых форм. Затем изделия сушат на солнце в течение нескольких дней, следя за равномерностью усадки, чтобы избежать трещин.
Перед обжигом поверхность каждого объекта тщательно полируют — обычно кварцевым камнем или гладкой косточкой. Этот этап определяет будущий блеск. Завершается процесс обжигом в земляной дровяной печи: температура достигает 700–800 °C, но не контролируется точно — мастер ориентируется на цвет пламени и запах. Именно этот способ обжига дает характерный темный оттенок с металлическим блеском.
Весь цикл занимает от 20 до 30 дней. Каждое нарушение технологии грозит испортить изделие. Поэтому производство барро-негро невозможно автоматизировать — оно зависит от ремесленного опыта, а значит, от конкретных людей и переданной ими техники. Это делает материал особенно ценным в дизайне, где ставка сделана не на тираж, а на уникальность.
Студия davidpompa начала работать с барро-негро более десяти лет назад. С самого начала акцент был не на формальной цитате ремесла, а на выстраивании устойчивого производственного процесса в сотрудничестве с местными мастерами. Это не заказ на стороне, а регулярная совместная работа, выстроенная на доверии и длительном присутствии в регионе.
Каждое изделие — результат взаимодействия дизайна и ремесла. Светильники формуют вручную, адаптируя технику под нужные объемы, толщину стенок и особенности геометрии. Полировка и обжиг также выполняются вручную — это позволяет сохранять живую фактуру, едва заметные переходы цвета, микроскопические следы инструментов. В этом нет намеренной «ручной эстетики» — скорее, речь о реальном следе процесса, который невозможно воспроизвести в серийном производстве.
Коллекция Can строится на простейшей геометрии — цилиндры, срезы, округлые основания. Эти формы продиктованы возможностями материала. Барро-негро дает плотную, но хрупкую массу, поэтому конструкция не может быть сложной или перегруженной деталями. Каждый элемент работает на прочность и баланс.
Форма подчеркивает свойства глины: вес, устойчивость, фактуру поверхности. Светильники создают не яркое освещение, а мягкое рассеянное свечение — в этом тоже чувствуется исходный материал. Черная глина почти не отражает свет, зато отлично поглощает его, задавая ощущение глубины и плотности.
Такие светильники вписываются в пространство как архитектурные модули. Их задача — структурировать среду, задать акцент, но не привлекать к себе избыточное внимание. Это делает коллекцию универсальной: она работает в разной типологии интерьеров, от частных домов до общественных пространств.
Светильники davidpompa из барро-негро используют в проектах по всему миру: в частных интерьерах, галереях, магазинах. География расширяется, но способ производства остается прежним — медленным, локальным, завязанным на ремесленные мастерские в Оахаке.
Материал включен в предмет как конструктивная основа. Текстура, вес, характер обжига — все это работает на форму, а не на узнаваемость. Объекты не считываются как этнографические или декоративные — они вписаны в современный дизайн.
Такой подход дает материалу продолжение. Барро-негро сохраняет связь с местом, но не замыкается в нем — оставаясь в производстве, он становится частью мировой дизайнерской инфраструктуры.
Студия davidpompa работает с одними и теми же семьями мастеров из Сан-Бартоло-Койотепек. Это не партнерство по проекту, а постоянная производственная связь. Формируется устойчивая система, в которой передача техники — часть процесса, а не жест сохранения.
Продукт не подается как «уникальный объект» или «вдохновленная коллекция» — это результат длительной совместной работы, встроенной в локальную экономику. Смысл не в эксклюзивности, а в продолжении технологии. Такой подход позволяет материалу работать в реальном производстве.
В мексиканском городке Сан-Бартоло-Койотепек из поколения в поколение передаются знания об обработке барро-негро — черной глины с металлическим блеском. Эти технологии, восходящие к эпохе сапотеков, сегодня стали основой для светильников студии Davidpompa, объединяющей ремесло и современный индустриальный дизайн. Редакция JUNG Media изучила, как студия из Мехико строит работу с локальным материалом, на каких принципах основано производство коллекции Can и какое значение для современной формы имеет древняя техника обработки глины.





Инсталляция ATMOSPHERE — это не демонстрация продукта, а архитектурная среда, которая формируется в момент взаимодействия. Здесь нет витрины и нет дистанции. Посетитель становится соавтором: пространство реагирует на прикосновения, на выбор, на маршрут движения.
В центре — сфера, усыпанная сотнями работающих выключателей JUNG. Каждый — не муляж, а активный элемент. Нажатие запускает свет, звук, проекцию текста. Пространство меняется — вместе с ним меняется и восприятие. Инсталляция устроена как чувствительная система, где техника — это не средство управления, а точка диалога.
ATMOSPHERE не объясняет, как работает «умный дом» — она показывает, что техника может быть чувственной, открытой, непредсказуемой. Вместо схем и описаний — личный опыт, построенный из действий и реакций. И в центре этого опыта — физический контакт с техникой, который запускает не только свет, но и внимание, память, эмоцию.
Центральный элемент инсталляции — зеркальная сфера диаметром почти два метра. Ее форма работает сразу на нескольких уровнях: как абстрактный символ Земли, как отсылка к архитектуре дискотек 1970-х, как структура, в которой нет лицевой стороны. Это объект, который нельзя охватить взглядом сразу, он требует движения, обхода, времени.
На поверхности сферы — сотни рабочих выключателей JUNG. Они размещены плотным ритмом, без очевидной системы. Некоторые активируют свет, другие — звук, третьи запускают проекцию текста. Это создает у посетителя ощущение непрограммируемой вариативности, где невозможно предугадать результат.
Зеркальная оболочка сферы отражает окружающее: архитектуру пространства, других посетителей, самого участника. Это усиливает эффект вовлечения — человек становится частью объекта, многократно отраженным в его поверхности. В результате возникает пространство без иерархии, в котором техника, архитектура и человек существуют на равных.
Пространство ATMOSPHERE построено как эмоциональная сцена, в которой функции техники дополнены языком образов. На стенах — типографические проекции: строки из песен, которые узнаются мгновенно. Don’t Stop Me Now. Hello Darkness, My Old Friend. Here Comes the Sun. Это структура смыслов, встроенная в реакцию пространства.
Свет работает на изменение восприятия. Концепция освещения, разработанная ERCO, не разделяет зоны — наоборот, она растворяет границы. Одни участки вспыхивают цветом, другие исчезают в отражениях. Свет ведет по инсталляции, помогает различать, сбивает с толку, уводит в сторону.
Музыка появляется не как фоновый слой, а как результат действия. Звук активируется переключателями, сочетается с цветом, соединяется с текстом. Каждый цикл — уникален.
Для ATMOSPHERE были использованы индивидуально разработанные модели выключателей — часть коллекции JUNG UNIQUE, созданной в сотрудничестве с бюро Ippolito Fleitz Group. Эти изделия не выбраны из каталога. Они спроектированы специально для инсталляции: каждый — со своей текстурой, цветом, материалом.
Несмотря на художественный подход, все выключатели остаются технически функциональными — каждый из них участвует в сценарии взаимодействия. Коллекция подчеркивает: выразительность возможна не за счет отказа от технологии, а в ее точном переосмыслении.
ATMOSPHERE стала местом первой публичной демонстрации этих решений. Но в отличие от шоурума, здесь выключатели не выставлены — они встроены в ситуацию, где форма становится действием. Коллекция не иллюстрирует возможности бренда — она раскрывает потенциал техники в художественной системе координат.
ATMOSPHERE не задумывалась как разовая инсталляция. Ее структура — модульная: каждый элемент можно разобрать, перевезти, собрать заново. После Милана она поедет в Париж, затем в Лондон. Такой подход исключает одноразовость — инсталляция жизнеспособна как тиражируемая система.
Материалы подобраны с учетом повторного использования и минимального воздействия на окружающую среду. Сфера не требует подвесов или фундамента, световое оборудование — энергоэффективное, конструкции — облегченные. В проекте нет имитации «эко-дизайна», но есть инженерная точность: экологичность встроена в проектное решение, а не декларирована.
Сфера в центре ATMOSPHERE — не только эстетический объект, но и символ цикла. Она отражает все вокруг, вписывает в себя посетителя, и при этом не фиксирует ни одного состояния. Эта подвижность — и есть суть устойчивости в сегодняшнем проектировании: способность адаптироваться, существовать дольше, быть не событием, а частью процесса.
На выставке Fuorisalone 2025 в миланском районе Брера компания JUNG совместно с бюро Ippolito Fleitz Group представила инсталляцию ATMOSPHERE — масштабный объект на стыке дизайна, техники и поэтики. В центре — сфера, усыпанная сотнями выключателей JUNG. Пространство реагировало на прикосновения: загорались световые сцены, звучала музыка, на зеркальных поверхностях возникали фразы из песен. Редакция JUNG Media изучила, как устроена инсталляция ATMOSPHERE — какие элементы в ней использованы, как техника становится частью эмоционального опыта и зачем компании понадобилась такая форма выражения.